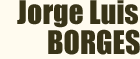
| Хорхе Луис Борхес / Виртуальная библиотека | Сегодня суббота, 20 апреля 2024 года |
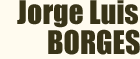 |
| © 2009 | Главная | Книги | О Борхесе | Фотографии | Алфавитный указатель | Назад | |||||||||
Бесконечность, Бог и Борхес
Борхес был всегда. Даже тогда, когда работал безвестным скромным служителем Национальной библиотеки. Еще в начале двадцатых годов, возвратившись из поездки по Европе на родину с идеей покончить с культурным одиночеством Латинской Америки
По улице Кастелли в Буэнос-Айресе, опираясь на крупную деревянную трость и глядя далеко перед собой, шел человек. К нему восторженно бросился прохожий:
— Вы — Хорхе Луис Борхес?..
Человек с тростью в нерешительности замер, обернулся на голос, посмотрел в сторону говорящего ничего не видящими глазами, иронично улыбнулся и ответил:
— Иногда...
Однако Хорхе Луисом Борхесом — почетным доктором крупнейших университетов мира, почетным директором Национальной библиотеки Аргентины, лауреатом множества международных премий по литературе, аргентинским писателем, поэтом, философом, литературоведом и переводчиком — Борхес был всегда.
Даже тогда, когда работал безвестным скромным служителем Национальной библиотеки. Еще в начале двадцатых годов, возвратившись из поездки по Европе на родину с идеей покончить с культурным одиночеством Латинской Америки, Борхес приобрел славу неслыханного эрудита. Здесь, в грандиозной библиотеке, всеобъемлющая эрудиция Борхеса нашла своего материального двойника — воплощенную в книге мысль всего человечества.
В какой-то момент, может быть это случилось 24 декабря 1935 года, библиотекарь Борхес, относя заказчику пропахший пылью и временем фолиант, внезапно ощутил, как одинока каждая библиотечная книга. Он почувствовал сиротство, космическое сиротство библиотечных полок, сотен тысяч непрочитанных томов и осознал всемирную драму книг как свою собственную. Библиотека превратилась для него во вселенную, стала всеохватным космосом слов и текстов, а себя Борхес увидел сирым послушником, который, затаив дыхание, пытается уловить ритм, отыскать центр этого космоса.
Главный герой новеллы «Вавилонская библиотека» — некая реально существующая библиотека, которая объемлет все мировое пространство. Она запутанна, как лабиринт. Книги перекликаются в ней, зеркально отражаясь друг в друге. По сравнению с этой библиотекой легендарная Вавилонская башня — жалкая претензия человеческого воображения на грандиозность. Библиотека состоит из секций, секции имеют форму шестигранников и служат одновременно книгохранилищами и читальными залами. Каждый шестигранник пронизывает винтовая лестница, уходящая вниз и вверх. Ко всему, что находится в библиотеке, и к ней самой не применимы понятия начала и конца: бесконечность — ее главная характеристика. Обитатели этой причудливой вселенной — конечно, люди читающие — однажды испугались холодной бесконечности своего мира и стоящей перед ними задачи познать его и смиренно согласились с чьей-то сомнительной идеей, будто в библиотеке имеется книга, «содержащая суть и краткое изложение всех остальных».
Новеллы Борхеса — интеллектуальная загадка, где читатель должен быть активен, как дешифровщик. Борхес прекрасно понимает, к каким последствиям может привести страх обитателей Вавилонской библиотеки, взявший верх над силой разума. Избегая грубой дидактики, Борхес опровергает их боязливое решение целым рядом подсказок. Например, в новелле говорится, что библиотека содержит верный каталог, а также каталог, доказывающий его фальшивость. Сопоставив факты, читатель приходит к выводу, что книга, якобы содержащая, все истины бесконечного мира-библиотеки, должна иметь своего антипода — другую книгу, по отношению к которой первая будет выглядеть блестящим образцом лжи. В своем эссе «По поводу классиков» Борхес писал, что «всякое предпочтение может оказаться предрассудком». Это относится и к обитателям Вавилонской библиотеки, которые отдали предпочтение одной книге.
Почему и ради чего Борхес категорически отвер-(*37)гает идею одной книги, в которой собраны все мировые истины, и почему так важно для него распределить эти истины по бесконечному числу книг?
Бесконечность — одно из любимых слов Борхеса. Пролистаем его прозу и постараемся восстановить смысл этого слова.
В новелле «Бессмертный» Борхес размышляет о мучительных поисках истины — и приходит к идее Вечного поиска. В новелле «Смерть и буссоль» — о ловушках, подстерегающих человеческий разум, чтобы превратить вечный поиск в непререкаемую догму. В новелле «Поиски Аверроэса» — об относительности истин. Непрерывному изменению Борхес последовательно противопоставляет догмат, претендующий на истинность. Вот уже, кажется, истина найдена — читатель слушает исповедь аскета о его добровольном одиночестве (эпизод новеллы «Заир"). Аскет живет в пустыне, охраняет от людской алчности несметные сокровища. Неожиданно в повествование вторгается новое лицо, также говорящее от своего имени, — мифологический герой Сигурд. Он убивает аскета, который оказывается узурпатором сокровищ, персонажем древнегерманской мифологии змеем Фафниром. Жертвенность отшельника и кровожадность змея — две стороны одной и той же реальности, причем реальность становится выпуклой, объемной с появлением точки зрения нового персонажа. За простым сюжетом скрыта глубокая философская догадка: изменение взгляда на действительность преображает саму действительность, переворачивает с ног на голову все ее истины и ценности. Но Борхес сомневается в том, что аскет — на самом деле тот, кем он себя называет, не для того, чтобы утвердить истинность другой точки зрения, что смиренный отшельник — злобный и жестокий змей, дракон, чудовище, а для того, чтобы остановиться на изменении.
Путь к пониманию Борхеса прост — и труден. Его новеллы построены по принципу детектива: в них есть загадка, тайна, всегда связанная с текстом, и разгадка тайны приобретает черты исследования текста, то есть становится филологической в самом точном смысле этого слова. Д е т е к т и в н о е р а с с л е д о в а н и е, захватывающее и увлекательное, постепенно переходит в ф и л о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е. Вот тут-то и начинаются сложности. Эти сложности будут нами преодолены, если чтение перейдет в прочтение.
В рассказе «Круги руин» некий маг вознамерился выбрать себе сына из учеников, явившихся ему во сне. Увидев сына «во всех подробностях», он приобщает его к яви волевым и интеллектуальным усилием, переводит сон в реальность. Но мага не оставляет мучительный страх, что сын обнаружит собственную невосприимчивость к огню — единственное свидетельство его необычного рождения — и догадается о своей призрачной сущности. Проза из обычной переходит в ритмическую, вносит повторения, словно намекает на заключительный аккорд. И действительно, истина приходит с ритмом: маг-отец во время лесного пожара обнаруживает у себя «иммунитет» к огню и понимает, что сам тоже кем-то создан.
Персонаж Борхеса мыслит себя творцом, но оказывается сотворенным, и нет гарантий, что его создатель — начальное звено в цепи повторений. Скорей, и он сам — не только создатель, но и созданный, просто еще не осознавший свою вторичность. Борхес как бы со стороны созерцает бесконечную череду превращений всех его героев. Иногда даже самому писателю не удается отойти в сторону: «Я не знаю, кто из нас двоих пишет эти строки», — говорит рассказчик новеллы «Борхес и я».
В удивительно стройном мире Борхеса на правах персонажей фигурируют литературные герои, сошедшие со страниц мировой литературы, знаменитые и безвестные исторические деятели, средневековые теологи, мистики и еретики, персонажи древнегреческой и скандинавской мифологии, китайские императоры и, наконец, — жители пригородов Буэнос-Айреса. Кажется, вся мировая литература возникает на страницах произведений Борхеса, чтобы бесконечно переосмыслять самое себя.
Борхес, кажется, забывает о существовании границы между фантазией и реальностью фантазии. Всякий раз, когда ему приходится выбирать из двух вымышленных приключений, он выбирает приключение вымысла. Когда его спросили, какой эпизод в «Дон Кихоте» Сервантеса «самый чудесный», Борхес ответил, что всего поразительнее, когда во второй части романа герои как заправские читатели обсуждают содержание только что прочитанной ими первой его части. Вымышленные герои читают вымышленную книгу, реалистически повествующую о них самих (это и есть реальность фантазии). Глубина вымысла производит незабываемый эффект правдоподобия.
Очевидно, Борхесом выдуман и Пьер Менар, персонаж новеллы «Пьер Менар, автор «Дон Кихота», — фиктивный автор несуществующих произведений, поданный в новелле через их каталог. Каталог, составленный самим Борхесом, не раз смущал въедливых комментаторов: один даже предпринял архивные разыскания, чтобы возродить несправедливо забытого Пьера Менара. Каталог действительно «балансирует» м е ж д у в ы м ы с л о м ф и л о л о г а и р е а л ь н о с т ь ю ф и л о л о г и и, между мистификацией Борхеса и правдой науки. К «пограничному» каталогу Борхес привязывает отрывки из произведений Менара, создает к ним пространный комментарий, проводит литературные параллели, усиливает реалистический план. Борхесовская страсть к бесконечным превращениям пересекает «демаркационную линию» между фантазией и реальностью и устремляется дальше — из глубины филологического вымысла ко все большей подлинности. При этом нужно помнить, что речь идет о подлинности бесплотной, мнимой — о реальности филологического исследования.
Новелла «Фунес, чудо памяти» повествует о самом удивительном свойстве человека — абсолютной памяти. Герой новеллы может вспомнить номер дома, мимо которого он пробегал шесть лет назад, форму его окон, рисунок, образуемый трещинами на стене. Он вспоминает когда-то увиденное дерево, листья на дереве, цвета и оттенки, которые отличают их один от другого, прожилки на них. Нет такой детали, на которой не останавливалась бы память Фунеса: самая мелкая будет дробиться бесконечно. Парадокс заключается в том, что все помнящий (а потенциально все знающий) Фунес — неразумен: за его абсолютной памятью сквозит какое-то безвкусное неумение отделять важное от второстепенного. За бесконечной памятью — неумение мыслить.
Казалось бы, сама болезнь — Фунес парализован — должна подсказать ему, как использовать такое замечательное свойство. Но Фунес не слышит подсказок, он самовлюбленно вспоминает, наслаждается собственным чудом в одиночку, перебирает, как четки, свои воспоминания...
В 1983 году в Аргентине вышла книга радиобесед аргентинского литературоведа Сантьяго Каррисо с Борхесом, приуроченная к 80-летнему юбилею писателя. По аналогии с новеллой о Фунесе она названа «Борхес, чудо памяти». Достаточно пролистать ее, как станет ясно: Борхес — антипод Фунеса. Он вспоминает не себя, а всю мировую культуру, литературу, философию, историю и чудо своей памяти выносит на страницы своих новелл, делится им со всеми. В этой памяти — ключ к борхесовским играм с бес-(*38)конечностью: они являют собой метафору н е п р е р ы в н о й и б е с к о н е ч н о й ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы.
Но иногда Борхес, как бы почувствовав всю тяжесть мировой филологии, устает от игр с бесконечностью. Тогда он возвращается к истокам своего универсума, к его первоначалам, к мифу. Герои новелл «Вдова Чинга, пиратка», «Мужчина из розового кафе», «Жестокий освободитель Лазарус Морель» срисованы с жителей Ла Платы. В фольклорной отваге бесстрашной китайской атаманши, в наивной дерзости вора и проповедника с берегов Миссисипи, в мифологическом героизме мусульманского религиозного авантюриста нет-нет да и проглянет смелый аргентинский пастух-гаучо или рубаха-парень с окраины Буэнос-Айреса.
Словно согретый их появлением, Борхес выходит из филологических лабиринтов на улицы родного города, после мучительного осознания собственной неоднозначности ощущает себя истинным портеньо — коренным жителем аргентинской столицы, от бесконечных чудес, слов, имен возвращается к имени любимой женщины (Беатрис из новеллы «Алеф"), к любимой улице Кордоба...
Устав от бесконечных превращений, Борхес уходит к целому и единичному. В течение всего рассказа «Заир» Борхес пытался перебрать, припомнить, определить всю бесконечную цепочку значений слова «заир» (первое его значение — название монеты). В финале рассказа он спрашивает себя: «А может быть, там, за монеткой, и находится бог». Мы видим уже не ироничного скептика Борхеса, а серьезного теолога, который закидывает в бескрайнее море мировой культуры тончайший невод своих бесконечных поисков. А вдруг бесконечность конечна? А вдруг действительно — за бесконечностью превращений мелькнет око господне или движение длани, творящей мир? Что если плоть мировой культуры — такой идеальной и бесплотной — лишь эманация божественного?
Но за словами следуют слова, за одним именем — другое имя, и Борхес разводит руками, растерянно вздыхает и тут же иронизирует над самой идеей религиозности: «Верить в ад — нерелигиозно», — пишет он в новелле «Длительность ада». А рассуждая о концепции «бесконечной вины человека перед богом», замечает: «Считать, что вина бесконечна, поскольку грех направлен против бога — существа бесконечного, все равно, что считать, будто она — святая, так как свят бог, или думать, будто оскорбление, наносимое тигру, должно быть полосатым».
Крупнейший православный философ П. А. Флоренский писал в своем трактате «Иконостас»: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит то именно, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: есть «Троица» Рублева, следовательно, есть Бог».
Рублевская «Троица» — безусловно, событие мировой культуры. Философ Борхес считает иначе: если бы бог существовал, то место ему — в финале всех событий культуры, по ту сторону бесконечности. И сам тут же выстраивает новую бесконечность, отрицающую финал.
Действительно, в мире Борхеса все бесконечно текуче. Продолжать исследование бесконечных изменений — в некоторой степени интеллектуальный героизм. Если Борхес отступает от своих правил — он сам знает цену этому отступлению.
"Понятие определенного текста соответствует либо усталости, либо религии», — говорит он в статье «Гомеровские разночтения». Усталость и религия стоят в одной и той же позиции и противопоставлены неопределенности, бесконечной изменчивости текста, или имени, или культуры в целом — тому, что составляет борхесовскую новеллистику.
Усталость Борхеса — это честность писателя перед собственным материалом, честность конечного человека, неспособного объять бесконечность культуры.
И все-таки, приближаясь к своему 85-летию, на вопрос интервьюера о боге и вере он отвечает с неизменной иронической улыбкой: «Я верую в то, что бога нет».
Исследователи Борхеса пытаются свести его творчество к тому или иному литературному, философскому, а иногда и религиозному источнику. Дидьер Хаэн, автор статьи «О влиянии буддизма на творчество Борхеса», писал: «...Буддизм даже в большей степени, чем идеализм Беркли, является центром борхесовского творчества или его мировоззрения. Но, пожалуй, то же самое можно сказать о каббале, трансцендентализме, суфизме или идеализме Шопенгауэра». Кстати сказать, в одной из лучших книг о Борхесе — монографии Хайме Аласраки «Художественная проза X. Л. Борхеса: темы — стиль» с такой же дотошностью, как исследование буддийских сюжетов у Борхеса в работе Дидьера Хаэна, прослежены элементы каббалы. Подобное саморазоблачение — «то же самое можно сказать о...» — отменяет всякую ценность концепций Борхеса-буддиста или Борхеса-каббалистического книжника-талмудиста.
Выступая с лекцией о каббале, Борхес говорит о ней прежде всего как о культурном феномене: «Мы... совершенствуемся в интеллектуальном отношении. Подтверждением тому — это скромное событие (имеется в виду сама лекция. — И. П.), свидетельствующее, что нас интересует ход мысли каббалистов. Наш разум открыт, и мы готовы изучать не только чужой разум, но и чужое неразумие, чужие предрассудки. Каббала — не только музейный экспонат, но и особого рода метафора мышления».
Следует заметить, что и в своих эстетических воззрениях Борхес отказывался замыкаться в каких-либо пределах. Он одним из первых среди латиноамериканских писателей предложил «считать себя наследниками всей вселенной» и «браться за любые темы, оставаясь аргентинцами» (колумбийцами, перуанцами и т. д.), первым вывел узкую национальную традицию на оперативный простор всей мировой культуры. Декларации Борхеса не были красивой риторикой: он переводил на испанский произведения Джеймса Джойса, Вирджинии Вулф, Франца Кафки. Комментировал «Божественную комедию» Данте — комментарии настолько интересны сами по себе, что были выпущены отдельным изданием. Написал большую работу по скандинавской мифологии, помогал составлять аргентинские философские энциклопедии и словари.
Борхес никогда не гнался за тиражами, а мировую славу обрел лишь на склоне лет, когда почти совсем ослеп. «Мне повезло, — грустно иронизировал писатель, — я ослеп не сразу, не вдруг. Слепота наползала постепенно, как сумерки».
Диалектика бесконечного и единого, регулирующая борхесовский мир, иногда образует парадоксальные хитросплетения. В новелле «Песчаная книга"* таинственный гость приносит Борхесу Библию — тот самый канонический, неизменный текст, происходящий, по Борхесу, от предрассудка. Библия оказывается бесконечной. Ее невозможно открыть два раза на одном и том же месте: страницы возникают и исчезают, они просачиваются сквозь пальцы, как песок, оставляя взору читателя одно — непрерывный калейдоскоп изменений текста.
(*39) Рассказчик долго и скрупулезно изучает это чудо: бесконечную неопределенность, втиснутую в определенную книгу: культуру, приравненную к богу. Удивительно, однако, не столько чудо, сколько реакция самого Борхеса, выступающего в роли персонажа этого рассказа. Богоравная книга, богоподобная культура — идея, в какой-то степени очевидная для создателей нового латиноамериканского романа (Гарсиа Маркеса, Варгаса Льосы, Алехо Карпентьера и других), пугает Борхеса. По Борхесу, бесконечность возможна в идее, но не во плоти: сама Вавилонская библиотека — бесконечна идеально. Чудо, которое бы могло стать пределом борхесовских поисков, вызывает у писателя сомнение — столь же беспредельное, как и сама песчаная книга. Чудо отвергается как предрассудок — скептическим борхесовским разумом, привыкшим к выбору неразрешимых парадоксов.
Всем известно, что роза есть роза. Казалось бы, что тут странного? Тем не менее в новелле «Роза Парацельса» к выдающемуся алхимику приходит ученик, сомневающийся в том, что роза действительно является розой. Ученик бросает живой цветок в огонь. Вот что она такое, эта ваша роза, — жалкий прах, пригоршня пепла, тлен. Пусть теперь Парацельс докажет ему обратное, пусть воскресит этот цветок у него на глазах. Тогда он, ученик, поверит мастерству алхимика и навсегда у него останется в подмастерьях. «Ты очень доверчив, — отвечает ученику Парацельс, — а я требую веры».
И смысл веры борхесовского Парацельса, и сугубо литературный смысл религиозных сюжетов, к которым иногда обращается Борхес, нам помогает понять его лекция о буддизме. «Буддизм, — рассказывает аргентинский писатель, — очень требователен к нашей вере... Другие религии очень требовательны к нашей доверчивости. Если мы христиане, мы должны считать истинным, будто одна из трех ипостасей божества снизошла до человеческого облика и была крещена в Иудее. Если мы мусульмане, мы должны считать истинным, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его. Однако мы можем быть истинными буддистами и отрицать существование Будды. Или, скажем так, мы можем думать, должны думать, что наша вера в реальность не важна — важно верить в учение».
Борхесовский Парацельс презирает тлен и отказывается совершить чудо не потому, что ему претит оскорбительное легковерие новоявленного ученика. Но он все-таки творит чудо — причем у нас на глазах. Дело в том, что Парацельс Борхеса верит в учение, согласно которому роза есть роза. Именно это учение попирают ногами те, кто хотел бы обратить розу в прах, в тлен, в пепел костра. Парацельс верует в Слово. В Литературу. В Культуру. В этом ряду слово «роза» непрерывно воскресает. В этом ряду роза без сомнения является розой. Парацельс прогоняет ученика потому, что мастер Слова должен работать в одиночку. Только тогда, в абсолютном одиночестве творчества, может родиться такое чудо, как борхесовская новелла «Роза Парацельса».
Парацельс воссоздает розу — Борхес пересоздает смыслы культуры. В этом творческом акте Борхес осознает себя звеном в цепи культуры, которая существует благодаря своей бесконечности, непрерывному пересозданию своих смыслов. Однако в мировой литературе смысл Борхеса неизменен. Аргентинский писатель задолго до своих европейских коллег подошел к одной из главных эстетических идей XX века — к литературе, познающей культуру, к самопознанию культуры.
© Иван Петровский, «Наука и религия»
Книги Статьи Фотографии Алфавитный указатель