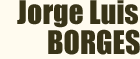
| Хорхе Луис Борхес / Виртуальная библиотека | Сегодня суббота, 12 июля 2025 года |
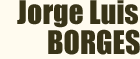 |
| © 2009 | Главная | Книги | О Борхесе | Фотографии | Алфавитный указатель | Назад | |||||||||
Несколько слов об Уолте Уитмене
Х.Л.Борхес
Перевод Б.Дубина
Из книги "Обсуждение" ("Discusión") 1932
Занятия литературой нередко возбуждают в своих адептах желание создать книгу, не имеющую равных, книгу книг, которая — как платоновский архетип — включала бы в себя все другие, вещь, чьих достоинств не умалят годы. Сжигаемые подобной страстью избирают для своих целей самые возвышенные предметы: Аполлоний Родосский — первый корабль, победивший опасности моря; Лукан — схватку Цезаря с Помпеем, когда орлы над ними бьются против орлов; Камоэнс — лузитанские воинства на Востоке; Донн — круг превращений души, по учению пифагорейцев; Мильтон — первородный грех и небесный Рай; Фирдоуси — владычество Сасанидов. Кажется, Гонгора первым отделил достоинства книги от достоинств ее предмета: туманная интрига «Поэм уединения» откровенно банальна, что признают, упрекая автора, Каскалес и Грасиан («Письма о литературе», VIII; «Критикой», II, 4). Малларме не ограничился избитостью тем: ему потребовалось их отсутствие — исчезнувший цветок, ушедшая подруга, еще белый лист бумаги. Как и Патер, он чувствовал: любое искусство стремится стать музыкой, чья суть — форма; его честное признание «Мир существует, чтобы войти в книгу» как будто подытоживает мысль Гомера, считавшего, будто боги ткут человеческие несчастья, дабы грядущим поколениям было о чем слагать песни («Одиссея», VIII, in fine [в конце (лат.).]). На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков Йейтс искал абсолют в таком сплетении символов, которое пробуждало бы память рода, великую Память, дремлющую в сознании каждого: рискну сопоставить эти символы с глубинными архетипами у Юнга. Кяпбюс в своем несправедливо забытом «Аде» выходит (точней, пытается выйти) за пределы времени с помощью лирического повествования о первых шагах человека; Джойс в «Finnegan's Wake» [«Поминки по Финнегану» (англ.).] — сталкивая в рассказе быт самых разных эпох. Свободное переплетение анахронизмов использовали, пытаясь создать иллюзию вечности, Паунд и Т.С.Элиот.
Я привел лишь несколько примеров, но самый любопытный относится к 1855 году и принадлежит Уитмену. Прежде чем перейти к нему, приведу ряд суждений, как-то предваряющих будущий рассказ. Первое сформулировано английским поэтом Лэселзом Эберкромби. «Уитмен, — пишет он, — создал из сокровищ собственного бесценного опыта живой и неповторимый образ, ставший одним из немногих истинных достижений новейшей поэзии». Второе — сэром Эдмундом Госсом: «Никакого Уолта Уитмена на самом деле нет... Уитмен — это сама литература в состоянии протоплазмы: чуткий интеллектуальный орган, всего лишь реагирующий на любой поставленный перед ним предмет». Третье — мной: «Едва ли не все написанное об Уитмене грешит двумя непоправимыми изъянами. Один — поспешное отождествление литератора Уитмена с Уитменом — полубожественным героем "Leaves of Grass" [«Листья травы» (англ.).], таким же, как Дон Кихот в "Дон Кихоте"; другой — некритическое усвоение стиля и словаря его стихов, то есть именно того поразительного феномена, который и предстоит объяснить».
Представьте себе опирающуюся на свидетельства Агамемнона, Лаэрта, Полифема, Калипсо, Пенелопы, Теленка, свинопаса, Сциллы и Харибды биографию Улисса, которой говорится, что он в жизни не покидал Итаку.
Очарование от такой, к счастью, вымышленной книгикак раз и переживаешь, читая все биографии Уитмена. Покидать райский мир его стихов, переходя к пресной хронике повседневных тягот, невыносимо грустно. Как ни странно, эта неистребимая грусть еще острее, если биограф думает показать, что на самом деле есть два разных Уитмена: «дружелюбный и речистый дикарь» из «Leaves of Grass» и придумавший его нищий борзописец1. Один из них никогда не был в Калифорнии и Платт-Каньоне, другой — оставил стихи, обращенные к последнему из этих мест («Spirit that Formed this Scene»2) и был шахтером в первом («Starting from Paumanok»3). Один прожил 1859 год в Нью-Йорке, другой — присутствовал второго декабря этого года в Вирджинии при казни старого аболициониста Джона Брауна («Year of Meteors»4). Один появился на свет в Лонг-Айленде, другой — там же («Starting from Paumanok»), но, кроме того, — в некоем южном штате («Longings for Home»5). Один — сдержанный и чаще всего угрюмый холостяк, другой — взрывчат и необуздан. Множить эти несоответствия нетрудно; важнее понять, что переполненный счастьем бродяга, образ которого встает из каждой строки «Leaves of Grass», не мог бы написать ни одной из них.
Байрон и Бодлер драматизировали в прославивших их книгах собственные беды, Уитмен — свое счастье. (Через тридцать лет, в местечке Сильс-Мария, Ницше встретит Заратустру: этот лучащийся счастьем или, по крайней мере, рекламирующий счастье педагог имеет лишь один недостаток: он — выдуманный персонаж.) Другие романтические герои — их список открыл Ватек и далеко еще не исчерпал Эдмон Тэст — многословно подчеркивали собственные отличия от окружающих; Уитмен с его неукротимой скромностью хотел уподобиться каждому. «Leaves of Grass», предупреждал он читателей (Complete writings6, V, 192), — это «песнь великого и всеобщего "я", самого народа, всех мужчин и всех женщин». Или иными, бессмертными, словами («Song of Myself»7, 17):
Это поистине мысли всех людей, во все времена, во всех
странах, они родились не только во мне,
Если они не твои, а только мои, они ничто или почти ничто,
Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,
Если они не столь же близки мне, сколь далеки от меня, они ничто.
Это трава, что повсюду растет, где есть земля и вода,
Это воздух, для всех одинаковый, омывающий шар земной.
Пантеизм сделал общим местом фразы одного типа: в них говорится о Боге как множестве несводимых или (лучше сказать) разрозненных вещей. Прототип, например, таков: «Я обряд, я жертва, я возлияние масла, я пламя» («Бхагавадгита», IX, 16). Еще старше, но и противоречивей 67-й фрагмент Гераклита: «Бог — это день и ночь, зима и лето, мир и война, сытость и голод». Плотин рассказывает ученикам о непостижимом небе, где «все повсюду, и любое — целое, и солнце — это все светила, а каждое из них — все светила и солнце разом» («Эннеады», V, 8, 4). Персидский поэт XII века Аттар воспевает долгий полет птичьей стаи в поисках своего царя Симурга; многие гибнут в морях, но оставшиеся в живых открывают, что они и есть Симург, а Симург — каждая из них и все они вместе. Риторические возможности расширять эту формулу тождества все дальше, видимо, беспредельны. Читатель индусов и Аттара, Эмерсон оставил стихотворение «Брахма»; из его шестнадцати строк, может быть, глубже других в память западает вот эта: «When me they fly, I am the wings» («Я — крылья птиц, летящих прочь»). Более простой вариант — строка Стефана Георге: «Ich bin der Eine und bin Beide» («Der Stern des Bundes»8). Уолт Уитмен обновил эту фигуру речи. В отличие от других, она служит ему не для описания божества или игры в «притяжения и отталкивания» слов: в приступе какой-то безжалостной нежности он пытается отождествить себя со всеми живущими на земле. Он говорит («Crossing Brooklin Ferry»9):
Я был капризен, тщеславен, жаден, я был пустозвон,
лицемер, зложелатель и трус,
И волк, и свинья, и змея — от них во мне было многое.
Или («Song of Myself», 33):
Я сам этот шкипер, я страдал вместе с ними.
Гордое спокойствие мучеников,
Женщина старых времен, уличенная ведьма, горит
на сухом костре, а дети ее стоят и глядят на нее.
Загнанный раб, весь в поту, изнемогший от бега, пал
на плетень отдышаться.
Судороги колют его ноги и шею иголками, смертоносная
дробь и ружейные пули.
Этот человек — я, и его чувства — мои.
Все это Уитмен перечувствовал и всем этим перебывал, но, по сути, — не в повседневной истории, а в мифе — он был таким, как в двух следующих строках («Song of Myself», 24):
Уолт Уитмен, космос, сын Манхэттена,
Буйный, дородный, чувственный, пьющий, едящий, рождающий.
А еще был тем, каким ему предстояло стать в будущем, увиденном с той нашей грядущей ностальгией, которая сама вызвана к жизни этими предвосхищающими ее пророчествами («Full of Life, Now»10):
Сейчас, полный жизни, ощутимый и видимый,
Я, сорокалетний, на восемьдесят третьем году этих Штатов,
Человеку через столетие — через любое число
столетий от нашего времени, —
Тебе, еще не рожденному, шлю эти строки, они ищут тебя
Когда ты прочитаешь их, я — раньше видимый — буду невидим,
Теперь это ты — ощутимый, видимый,
понимающий мои стихи — ищешь меня,
Ты мечтаешь, как радостно было бы, если бы я мог
быть с тобой, стать твоим товарищем,
Пусть будет так, как если бы я был с тобой. (И не будь
слишком уверен, что меня с тобой нет.)
Или («Songs of Parting»11, 4, 5):
Камерадо, это не книга.
Кто прикасается к ней, дотрагивается до человека
(Что сейчас — ночь? мы вместе и никого вокруг?),
Это — я, и ты держишь в объятиях меня, а я обнимаю тебя,
Я выпрыгиваю со страниц прямо в твои объятья —
смерть призывает меня12.
Человек по имени Уолт Уитмен был редактором «Brooklin Eagle»13 и вычитал свои главные мысли у Эмерсона, Гегеля и Вольнея; Уолт Уитмен как поэтический персонаж почерпнул их, соприкасаясь с Америкой, и обогатил воображаемыми приключениями в спальнях Нового Орлеана и на боевых полях Джорджии. Выдуманный факт может оказаться как раз самым точным. Поверье гласит, что английский король Генрих I после смерти сына ни разу не улыбнулся; пусть этот факт вымышлен, но он вполне может быть истинным как символ королевской скорби. В 1914 году распространился слух, будто немцы подвергли пыткам и искалечили бельгийских заложников; известие было, без сомнения, вымышлено, но достигло цели, вобрав в себя весь беспредельный и темный ужас перед вражеским вторжением. Еще простительней случаи, когда ту или иную доктрину возводят к жизненному опыту, а не к составу библиотеки или конспекту лекции. В 1874 году Ницше посмеялся над пифагорейским тезисом о цикличности истории («Vom Nutzen und Nachteil der Historic»14, 2); в 1881-м, на одной из тропинок в Сильвапланских лесах, он вдруг взял и сформуливал этот тезис («Esse Homo»15, 9). Глупо на полицейский манер толковать о плагиате; Ницше, спроси мы его самого ответил бы: важно, как идея преобразилась в нас, а не просто, что она пришла в голову16. Одно дело — отвлеченное предположение о божественном всеединстве; другое — вихрь, подхвативший арабских пастухов и перенесший их в гущу битвы, которая не имеет конца и простирается от Аквитании до Ганга. Задачей Уитмена было представить вживе образцового демократа, а вовсе не сформулировать теорию.
Со времен Горация, в платоновском или пифагорейском духе предвосхитившего свое лреображение на небесах, в литературу вошла классическая тема бессмертия поэта. Прибегают к ней чаще всего из чистого тщеславия («Not marble, not the guilded monuments»17), если не ради подкупа или в жажде мести; Уитмен же на свой лад и безо всяких посредников соприкасается с каждым будущим читателем. Он как бы встает на его место и от его имени обращается к собеседнику, Уитмену («Salut au monde»18, З):
Что ты слышишь, Уолт Уитмен?
Тем самым он переживает себя в образе вечного Уитмена, образе друга, который был старым американским поэтом XIX века и вместе с тем — легендой о нем, и каждым из нас, и самим счастьем. Гигантской, почти нечеловеческой была взятая им на себя задача, но не меньшей оказалась и победа.
1. Это различие признают Генри Сейдел Кэнби («Уолт Уитмена 1943) и Марк Ван-Дорен в предисловии к антологии, опубликованной издательством «Викинг» (1945). Больше, по моим сведениям, никто.
2. «Дух, зодчий этой сцены» (англ.).
3. «Рожденный на Поманоке» (англ.).
6. Полное собрание сочинений (англ.).
7. «Песнь о себе» (англ.; перевод К.Чуковского).
8. «Я и одно, и оба разом» («Звезда единства») (нем.).
9. «На бруклинском перевозе» (англ.; перевод В. Левика).
10. «Сейчас, полный жизни» (англ.; перевод А. Старостина).
11. «Песни расставания» (англ.; перевод Э. Шустера).
12. Механизм подобных обращении непрост. Нас волнует то, что поэт взволнован, предвидя наше будущее волнение. Ср. строки Флекера, обращенные к поэту, который прочтет его через тысячу лет:
О friend unseen, unborn, unknown,
Student of our sweet English tongue
Read out my words at night, alone:
I was a poet, I was young.
(Уча язык наш, мой далекий
друг, из грядущей темноты
вглядись, потомок, в эти строки:
я был поэт и юн, как ты).
13. «Бруклинский орел» (англ.).
14. «О пользе и вреде истории» (нем.).
16. Точно так же стоит отличать саму идею и веру, будто наиболее серьезные нападки на ту или иную философскую доктрину обычно Уже предвосхищены там, где она и сформулирована. Платон в «Парвяиде» предвидит аргумент о третьем, который позднее выдвинет против него Аристотель; Беркли («Dialogues», 3) - собственное опровержение Юмом.
17. Ни мрамор, ни злаченый истукан (англ.).
18. «Приветствие всему миру» (франц.).